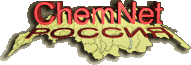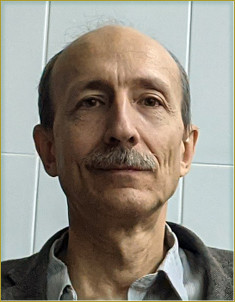Химические классы при МГУ
в ГБОУ Школа №171 г. Москвы
Михаил Беклемишев: "Мы используем неселективность, и это – большой палец вверх!"
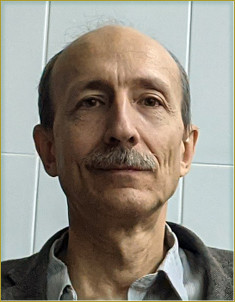
Михаил Константинович БЕКЛЕМИШЕВ – доктор химических наук, ведущий
научный сотрудник кафедры аналитической химии ХФ МГУ, заместитель главного
реактора Журнала аналитической химии, куратор секции аналитической химии
Международной Менделеевской олимпиады, выпускник химического класса при МГУ в
московской школе №171. В честь 50-летия химических классов с Михаилом
Константиновичем побеседовал доцент ХФ Александр БАНАРУ.
"В моем вкладыше одна четвёрка по атеизму"
–Перед беседой я читал вашу статью в брошюре "Наш дом – химические
классы школы №171". Последний выпуск брошюры был в 2004 году, но в этом году
хотят сделать еще один выпуск.
– Да, хотят сделать, но я не сподобился ничего нового написать,
поскольку основное уже рассказано здесь.
– Вы пишете о трех наиболее запомнившихся учителях:
это учитель литературы Галина Александровна Самойлова, учитель математики
Григория Аронович Ястребинецкий и учитель физики Тамара Моисеевна Лозовская.
Хочу Вас подробнее расспросить о Григории Ароновиче. Насколько
понимаю, он бывший фронтовик.
– Этот его аспект деятельности нам был совершенно неизвестен. У
нас он был учителем последний год перед выходом на пенсию и к концу много
болел. Но, конечно, он был совершенно гениальный методист. Владимир Иванович
Дайнеко потом приводил статистику, что, пока [в школе] был Ястребинецкий,
математику сдавали на вступительных экзаменах на столько-то выше, чем в среднем
по Москве, а когда его не стало, стали сдавать на уровне всех московских
школьников. Его коронная фраза: "Обдумайте этот вопрос, пока я буду открывать
учебник".
– В чем его главная особенность? Он был строгий?
– Трудно сказать. Видимо, умел учить, умел требовать. Изнутри трудно
понять, в чём, собственно, дело. Чем хороший учитель отличается от обычного? Не
знаю. Талантом! В общем, действительно, математика шла у нас тогда неплохо.
– В этом году я беседовал с Сергеем Серафимовичем Бердоносовым, к
сожалению, ныне покойным, и тоже не смог от него добиться рецепта "хорошего
учителя".
– Да, это такая вещь, которую невозможно разложить по полочкам.
– Чем Вам запомнился Сергей Серафимович? Про него Вы пишете
достаточно мало.
– Мало пишу, потому он читал нам неорганику, и всё. Семинары-то у нас
вёл Андрей Николаевич Григорьев, и мы с Сергеем Серафимовичем тогда больше особо
не пересекались. Мы с ним общались уже потом, в бытность мою на [кафедре] радиохимии:
там я в своё время "рулил" комнатой, которая принадлежала кафедре аналитической
химии. И вот тогда мы с Бердоносовым общались – уже по работе, а не по школе.
– Как Вы вообще стали химиком?
– Эта история вполне конкретная. Это любовь к сладкому. Я лезу в
материнскую поваренную книгу, где описаны методики изготовления всяких пирожных,
и вижу фразу: "Соду гасить в чайной ложке уксуса". У меня глаза лезут на лоб, хотя
я уже в седьмом классе, и мы химию начали проходить. Ну, иду на кухню, беру
соду, уксус – зашипело! Дальнейшее, наверное, можно не рассказывать. Юным
химиком стал не только я, но и четверо моих одноклассников. Потом мы уже обросли
лабораториями, собирали всё, что только можно, откуда можно. Из фотомагазинов,
хозяйственных магазинов, и даже в магазин химреактивов в ту пору мог школьник
прийти и что-то купить. Ну и сливали всё это. Друг другу давали смеси на
качественный анализ, и чего там только не было! Вот так рождалась наша, так
сказать, экспериментальная часть.
Теоретическая подготовка шла совершенно по-другому: учительница
заставляла нас "подтягивать" двоечников по химии. Для этого нужно было с ними уравнивать
реакции, а для этого нужно было заглянуть в учебник вперёд. Таким образом, мы
пролистали учебник вперёд вот с этой целью, а потом уже поняли, что надо как-то
расти дальше. Нам повезло, в книжном магазине нам попался хороший учебник по
неорганической химии для техникумов, то есть как раз среднее между школой и вузом,
и практикум по полумикроанализу. И вот на этих двух книжках мы
самообразовывались.
Потом был кружок во Дворце пионеров, который, не могу сказать, что
очень многое нам дал. А потом уже факультет. Сейчас для меня начинается 50-й
год на факультете, потому что в [факультетский] кружок по неорганике мы пришли
восьмиклассниками в 1975 году.
– Ваш отец был биологом. Пытался ли он повлиять на Ваш выбор
специальности?
– Он был профессором биофака (К.В. Беклемишев – прим. А.Б.),
но совершенно никак не участвовал [в моем выборе]. Стал химиком и стал – ради бога.
– А как вы относитесь к тому, о чем рассказывает профессор Лисичкин:
что есть способности, специфические для химика-экспериментатора, и их можно
выявить. И что можно по ним химика отличить от всех остальных.
– Для меня профессор Лисичкин такой авторитет, что я не могу с ним
спорить. Если он говорит, что такое есть, то оно есть. Мы должны ему поверить.
– Чувствуете ли вы в себе, что Вы именно химик?
– Понятно, что это не гуманитарное, допустим, и не мехмат. Вот мехмат –
это отдельно, эти люди другие. Они даже внешне другие. У меня жена проработала
несколько лет в библиотеке мехмата, пока училась на вечернем отделении филфака,
и она их отличает визуально. Есть мехмат, есть естественники (это вот мы), и есть
гуманитарии. Но чтобы именно "химик" (я или кто-то другой) – не уверен.
– Как Вы выбрали именно аналитическую химию?
– По принципу от противного. Почему-то мне было "противно"
биологическое, органическое – не знаю, почему. Может быть, потому, что этим все
тогда занимались. Так что скорее [у меня] был какой-то крен в неорганику или вот,
пожалуйста, в аналитику. А конкретно уже так сложилось благодаря Татьяне Николаевне
Шеховцовой, она у меня была преподавателем [аналитики] в группе. Она просто
указала дверь, время и место, чтобы прийти к Юрию
Александровичу Золотову. Так и произошло, прямо в конце второго курса
я пришёл к тогда члену-корреспонденту Ю.А. Золотову, и дальше всё
случилось.
– Вы говорите, что вам не нравились отдельные предметы, но у Вас
диплом отличием. Получается, проблем не было ни с одним предметом?
– В моём вкладыше [к диплому] одна четвёрка есть, и она по атеизму. Однокурсники
шутили: "Наверное, в бога не верил!". Нет, проблем-то не было с изучением
дисциплин, хотя было какое-то эмоциональное отношение. Не знаю, откуда оно бралось,
но оно совершенно неправильное: наоборот, надо было, наверное, этим [органикой
и биохимией] заниматься. Сейчас мы приходим ко всему этому и работаем с живыми
системами. Так что это было какое-то детское представление, неадекватное, – но,
тем не менее, история именно такая.
– Вы пишете, что в Вашем классе было 32 человека, из которых
половина поступала на факультет, и из них половина поступила, то есть каждый
четвёртый пошёл учиться на химфак.
– Да, двое парней и шестеро девушек. Из тех, кто сейчас в Москве –
Игорь Далингер (зав. лабораторией в ИОХе, доктор наук), Анна Воронкова
(Шляхтина, Институт химической физики, доктор наук), Ирина Джанаева (стала
успешной в бизнесе), Ирина Яризова (Иванова). Ирина Добкина (Садовская) и Елена
Батракова за рубежами, тоже очень успешны (Елена Батракова, например, имеет
17 000 цитирований). Ничего не знаю про Наталью Думаневич.
– Правильно ли понимаю, что была такая общая тенденция для вашего
поколения в 90-е годы уезжать за границу?
– И сейчас есть такая тенденция, но меньше. А тогда, конечно, уезжали.
– Вы ведь тоже в США два раза работали?
– Да, но это, в основном, были заработки. И когда я уезжал [в США] в
последний раз в 2000 году, то уже решил, что это будет мой последний раз. Так
оно и произошло, больше я уже не ездил.
– В чём принципиально отличается работа на химфаке и в США? Что для
вас было необычным?
– Необычного, конечно, было много, но это бытовые аспекты науки, так
скажем. А так, по сути, всё то же самое. Больше того, ты приезжаешь, – конечно,
не в перворазрядный, а второ- или третьеразрядный университет – и видишь, что
люди там не знают некоторых вещей, которые ты знаешь, и что ты должен им что-то
объяснить, и они: "О, да, хорошо, давай".
– Можно ли сказать, что наше теоретическое образование лучше, чем в
США, даже в хороших вузах?
– Оно не лучше, оно на уровне, наверное. Можно что-то сравнивать, есть
какие-то вещи по конкретным предметам, по которым лучше учат наших студентов,
полнее, а по каким-то учат меньше. В чём разница между американским
образованием и нашим? К уровню кандидата наук все примерно одинаковые, то есть
глобально это один и тот же уровень, но начинается он с разного. Вот эта MiddleSchool,
средние классы – для них во многом потерянные, потому что у нас изучают предметы,
а там изучают топики (topics – прим.
А.Б.). В результате к окончанию High School американский школьник в области
естественных наук – ни о чём. То есть в вузе ему надо учиться заново. И вот
первый курс химии, Chemistry 101, – это то, что мы
изучаем в 7-8 классе. Естественно, это побыстрее, пополнее и в расчёте не на
14-летнего, а на 18-летнего, но всё равно [изучение] начинают с нуля. Потому
что у некоторых вообще химии как предмета не было в школе.
– Был предмет Science?
– Да, какой-то Science, в котором отдельные
топики, нарезанные и совершенно не связанные друг с другом. Мы это наблюдали,
когда наши [собственные] дети начинали учиться в Штатах. Поэтому то, что мы
проходим в школе, они проходят на младших курсах вуза, грубо говоря. То есть к
окончанию вуза они ещё не доучились, и поэтому у них и аспирантура – учебная, они
в аспирантуре добирают то, что мы даём, фактически, своим дипломникам. Когда у
нас начали копировать американскую систему и в аспирантуре тоже делать учебу,
выяснилось, что учить-то особо нечему. Непонятно, что давать аспирантам, ведь
они уже "всё знают". И чего только не придумывали. Сейчас от этого отходят.
– Как же это потом выравнивается?
– А выравнивается это уже к уровню PhD: там в аспирантуре
они учатся и к концу аспирантуры получают то, что недополучили.
– Был ли у вас соблазн остаться в США?
– Наоборот, соблазн был у моих руководителей меня оставить. Но вот так
я устроен – мне дома хорошо. Не знаю, почему. Такой родился. Слава Богу, у жены
было то же самое. Она тоже знала, что едет на время, и знала, что приедет [обратно].
И детей воспитывала так. В первый раз мы ездили с женой и с малым ребенком,
второй раз с двумя детьми. Жена там, конечно, страдала, мучилась, пыталась
работать, испытывала депрессию. Не особо ей там понравилось, она не лучшего
мнения вообще об Америке и американцах, а я всё-таки лучшего (улыбается).
– Но Вы жили не в крупных городах?
– Не в крупных, но, может быть, это даже и лучше. Там неплохо, в
принципе. Мелкие университетские городишки.
"Это вознаграждение за неудачную научную карьеру
предыдущих десятилетий"
– Насколько, на Ваш взгляд, аналитическая химия и физическая химия
обособлены друг от друга? По своему опыту могу сказать, что у нас на кафедре [физхимии],
в принципе, занимаются тем же самым, просто, допустим, слова "чувствительность"
и "предел обнаружения" произносятся редко.
– Если мы говорим не об учебной дисциплине, а об отрасли знания, тогда это
принципиально разные вещи, поскольку аналитическая химия – это наука прикладная,
которая должна разрабатывать методы, а физическая химия – это наука
фундаментальная, которая должна познавать, как мир устроен. Другое дело, что
фактически в фундаментальной науке всегда будет приложение, которое будет ровно
такое, как в аналитике. И то, что там не называют "предел обнаружения", роли
никакой не играет, по факту будет то же самое. В аналитике поменьше, конечно,
будет фундаментального знания, но и оно тоже "выползает", естественно. Оп, и
вдруг оно "попёрло". И получается статья в Journal of Membrane Science
просто потому, что это надо было раскопать и изложить. Не
аналитическая статья – такое бывает. В этом, собственно, и разница.
– Всегда ли Вы занимались кинетическими методами анализа?
– Нет, конечно. Это пример неудачной научной карьеры: когда занимаешься
одним – не идёт. Потом занимаешься другим, смотришь – тоже не идёт. По разным
объективным и субъективным причинам. Потом занимаешься третьим – тоже не идёт.
Например, занимаешься кинетическими методами, и в итоге защищаешь вторую в
жизни диссертацию. Но бывают докторские диссертации, которые открывают, а бывают
те, которые закрывают. Защищая эту диссертацию, я был абсолютно уверен, что мы
эту тему закроем и больше никогда уже не вспомним, выкинем ее на свалку истории.
Но не прошло и десяти лет, как я вернулся к этой тематике на совершенно другом
уровне. Десяти лет хватило, чтобы познание совершило свой очередной виток, и мы
вернулись к этому. И я не уверен, что мы бы к этому пришли, если бы не было
занятий кинетическими методами тогда, в 90-х и 2000‑х. А так мы пришли к
этому и стали заниматься совершенно другими вещами. Там, в докторской
диссертации, мы боролись за селективность кинетических методов и эту битву, в
общем-то, проиграли. И, хотя мы не можем написать в диссертации, что у нас
ничего не получилось, любой что-то понимающий человек, прочитавший её, это
поймёт. Теперь наоборот: если там мы боролись за селективность, то теперь мы
используем неселективность, и это – большой палец вверх! Сейчас мы занимаемся распознаванием
объектов близкого состава как раз с использованием кинетического фактора. Наша
первая статья [по этой теме вышла в] 2021 г. в ЖАХе, а первая чужая работа,
которую нам удалось "раскопать" на данный момент, – это китайская статья 2017
года. Есть еще несколько единичных статей, но мы уже сейчас "нащёлкали" работ
больше, чем всего было выпущено в мире в этой области.
– В каком смысле неселективность – это плюс?
– Это плюс вот почему. Распознавание образцов близкого состава делается
химическими методами, то есть проводится реакция, в которой меряется несколько
показателей: светопоглощение в нескольких диапазонах (RGB),
флуоресценция в нескольких диапазонах (видимая область и ИК), и всё это во
времени. Получается многомерная картина, и этого достаточно – как если бы вы спектр
системы снимали, грубо говоря. Получается от объекта "картинка" – набор
кинетических кривых, и её достаточно для дискриминации. Дальше [применяют] методы
хемометрики (они же методы машинного обучения), которые позволяют распознавать
объекты. Зачем надо распознавать объект? [Например, чтобы находить] подделки. Cкажем, вот у меня несколько виски, что-то из них подделка. Что
– подделка? Если есть какая-то база [данных], то можно сравнить.
К нам обратился крупный производитель крепких алкогольных напитков, им надо
было отличать одни водочные спирты от других и коррелировать с дегустационным
рядом.
Или еще пример. Не все знают, что в Государственной Думе пять лет
пролежал закон, который предполагал, что у нас пища будет облучаться. Пока они не
стали вносить эти поправки, отменили на какое-то время, но мы к этому ещё придём,
потому что вся Америка, Южная и Северная, – облучает, вся Юго-Восточная Азия
облучает продукты – для продления срока хранения, для стерилизации (для
убивания бактерий, грибов, жучков-паучков). Нам это тоже светит, но у нас это
пока не пускают, в частности, потому, что нет методов контроля. Облучить-то вы
облучили на установке Росатома (который, видимо, всё это и лоббирует), но надо,
скажем, дать дозу 100 Гр, а он дал 1000 Гр и не сознался в этом. Как узнать по
продукту? При облучении там лежал дозиметр, но потом это уже не проверишь. А
если есть только сам продукт, как узнать? Оказывается, можно – есть ГОСТ, который цитирует ISO (International Organization for Standardization – прим. А.Б.), который перечисляет методы, как это надо
делать. Но методы эти ужасные: никакого оборудования и специалистов не хватит,
если всё это реально применять, тем более, методы не универсальны. Нет, если
стоит задача потратить как можно больше денег, то надо закупить кучу
хромато-масс-спектрометров и задачу решить. Но если всё-таки стоит задача сэкономить,
тогда это к нам – мы научились это делать "на коленке". Различение образцов близкого
состава, в частности, получивших разные дозы, делается именно кинетическим
методом, по-другому просто не идёт. Эта работа совместная с физиками и
НИИЯФом.
– Много ли у вас учеников? Аспирантов, студентов.
– Ой, много. В конце прошлого учебного года у меня руками работало 20
человек, но это начиная от "перваков", в том числе совместных, и заканчивая
пенсионеркой-полставочницей. Слава богу, они никогда все вместе не собираются,
потому что у нас только одна комната. Но бывали случаи в течение семестра,
когда студенты приходят, а у нас физически негде сесть. Я говорю: "Ну, ребят, извините,
надо приходить пораньше!" (смеется).
– Получается, что Вы возглавляете своё научное направление?
– Да, причём оно у нас абсолютно своё. Считаю это вознаграждением за
неудачную научную карьеру предыдущих десятилетий. Сейчас это наше, полностью
выстраданное. Но то, о чем мы с вами сейчас говорили, – это одно направление.
Есть другое – визуализация доставки лекарств, тоже штука интересная. Природа
нам дала уникальный шанс, когда случайно получился результат – в 2018 году аспирантка
обнаружила возможность визуализации так называемых гидрофобных ионных пар. Мы
тогда ничего про это не знали, но она увидела: оп! – сигнал. Откуда? Год ничего
не понимали, потом разобрались (2021 год – первая статья). Суть в чём:
гидрофобная ионная пара – это, допустим, какое-нибудь гидрофильное лекарство,
скажем, цефтриаксон (куча атомов кислорода, растворимый в воде), а ионную пару
он дает с противоположно заряженным ПАВом цетилтриметиламмонием (ион
обязательно должен быть амфифильный, то есть с "хвостом"). Это и называется
гидрофобная ионная пара. Физически это наночастица. Она может быть в растворе,
а может, если так сложится для каких-то систем, выпасть в осадок. [Мы] обнаружили,
что если туда добавить гидрофобный флуорофор, то он встраивается в гидрофобные
домены, и если это флуорофор, который в воде сам по себе не светит (а гидрофобные
часто не светят, потому что они там просто лежат в виде наночастиц), то он
встраивается в гидрофобную ионную пару и её визуализирует. Собственно, так её
увидели и мы. И уже потом поняли, что это такое. В аналитике это бесполезно,
потому что концентрации высокие. Минимум микромолярные [концентрации], ниже не
спустишься, – ионный ассоциат не настолько устойчив. Но для визуализации
доставки гидрофильных лекарств он незаменим. Гидрофобные [лекарства] как только
не визуализируют, здесь нет проблем, а гидрофильные – проблема. Флуорофор к ним
пришить – это как "вот вам пуговица, пришейте к ней пару брюк": флуорофор будет
больше по размеру, чем сам антибиотик, и поменяет его свойства. А как ещё? А
вот, нековалентным образом из этого гидрофильного вещества можно составить
гидрофобную ионную пару и её визуализировать. Потом мы можем запаковать это
дело в какой-то хитозановый контейнер и отправить в клетки и ткани организма. С
несколько иной точки зрения про такие системы мы
рассказывали в "Научных достижениях факультета".
– Кто является потребителем такой визуализации?
– Разработчики [лекарств]. Но аналитики, на самом деле, запросто
занимаются как раз визуализацией всего и вся в клетках и тканях, и эти работы идут
в аналитические журналы. Так что это не то что мы за чужое дело взялись.
– С медиками не сотрудничаете?
– Пока мы не доросли до того, чтобы эти системы предложить медикам. Им
было бы интересно, скажем, увидеть, как разрушается контейнер. Доставить-то мы
его доставили, первую статью выпустили, но теперь притормозили. Тем временем
придумали, как увидеть процесс разрушения контейнера. Дипломную работу сделали,
но статью еще не написали. А сотрудничаем мы в этом с энзимологами (Наталья Львовна Клячко).
"Изучать медицину можно было бы за счёт тычинок и
пестиков"
– Помимо занятий наукой Вы ещё ведете учебные курсы на ФНМ и нашем
факультете. Что это за курсы?
– На ФНМ я преподаю больше 30 лет – с самого начала, когда он ещё назывался
колледжем. Практикум [проводил] всегда, временами – семинары и лекции.
– Это общий курс?
– Там хитрый курс химии элементов, в который Ю.Д. Третьяков приложил включить
методы распознавания и идентификации, и они там были сначала "вкраплены" под
Новый год и весной в виде эдаких блоков. Потом всё это отнесли на конец года,
чтобы не ломать расписание неорганики, не состыковываться всё время. Так эта
часть аналитики и идёт в часах курса химии элементов. А потом у них на втором
курсе есть ещё отдельно, само собой, аналитика. Поэтому у них аналитика,
фактически, разделена на два курса. Смысл первого кусочка, который они
получают, – это качественный анализ. Мы всегда стремимся студентам объяснить, зачем
вообще качественный анализ, это же какой-то XVII век. У
нас эпоха хромато-масс-спектрометров, так зачем нужен качественный анализ? Я
всегда говорю, что, на самом деле, это практически единственный практикум, в
котором надо думать головой, а не механически воспроизводить методику: им
даётся смесь на анализ, и нужно её проанализировать. У каждого смесь своя. В
книжке описана, конечно, методика, но её нужно адаптировать и соображать, и тут
уже голова трещит и руки тоже, если так можно выразиться, трещат.
Курс получается очень содержательный. Главное, что после него они уже
не перепутают амфотерное с неамфотерным. Как говорил А.Н. Несмеянов, "повторение – не
мать, а мачеха учения, применение – мать учения". Так вот, это – применение
знаний по неорганике плюс ещё некоторых дополнительных, которых у них не было в
неорганике, для того чтобы решить практически задачу. При этом усвоение достигается
уже стопроцентно. Я думаю, это очень полезный курс.
А на химфаке [веду] лекции по кинетическим методам. Есть курс "SelectedChaptersofChemistry" на английский языке, там у меня пара лекций.
– Как Вы ощущаете свой уровень владения английским?
– "Читаю и могу объясняться" (улыбается). Понимаете, я ещё зам.
главного редактора ЖАХа, ответственный за выпуск английской версии, и [моего]
английского мне хватает, но владею им, конечно, не на уровне МГИМО. Ведь нас
профессионально ему не учили. А то, что мы отсидели три года в США – так это в
лаборатории, а не в изучении языка. Причем один раз у меня шеф был китаец, а
другой раз русский. С первым общались на плохом английском, а со вторым –
вообще по-русски. Так что не очень много языка эти поездки дают. Хотя, конечно,
чего-то поднахватаешься. Я и детей, кстати, учил английскому. C младшей дочерью между двумя поездками вообще не говорил
по-русски. Ни слова по-русски с рождения до 5 лет! По-русски с ней говорила
мать (она ленилась говорить по-английски) и бабушка. Ребёнок не начинает
говорить, если он не погружён в среду детей своего возраста, говорящих на языке,
поэтому она все понимала, но сама не говорила. Было очень забавно, когда
ребенку полутора или двух лет, который и на родном-то еще толком не заговорил,
скажешь: "Машунь, please, gotothekitchenandbringmemyslippers" – послушное дитя молча пыхтит на кухню и тащит мне
мои тапки, показывая, что адекватно все воспринимает. А старшая дочь (на 3 года
старше) сначала ярилась: "Папуш, не говори по-английски!". Но прошло полгода,
смотрю – и она всё понимает. Она тоже обучилась "автоматом". Это обучение без
языка-посредника. И потом это очень пригодилось, когда мы поехали в Штаты во второй
раз. Обученные "автоматом", они поступили в Штатах, соответственно, одна в kindergarten, вторая во второй класс, там они быстро
втянулись и без каких-то проблем учились. А мы с ними общались, наоборот,
только по-русски – готовились возвращаться.
– А сейчас чем они занимаются?
– Младшая дочь – историк, кандидат исторических наук, научный сотрудник
Института российской истории РАН, преподаватель Московского энергетического
института. Старшая на данный момент домохозяйка, потому что сидит с вторым
ребёнком. А до этого занималась международными продажами. Поскольку у неё с
английским всё было хорошо, она спокойно общалась по телефону с англоговорящими
людьми, что вообще-то для многих из наших – challenge.
А для неё нет.
– На посту зам. главного редактора Журнала аналитической химии
действительно что-то приходится делать?
– Не то слово! Очень много приходится делать, хотя сейчас я подраскидал
[обязанности]: значительную нагрузку мы перенесли на членов редколлегии. А
раньше вся работа с рецензентами была на нас. Главный редактор (раньше был Ю.А.
Золотов, сейчас В.П. Колотов) больше работает вовне: общается с издательством,
с Академией наук, заботится о наполнении портфеля журнала, организует
спецвыпуски. Текущей работой внутри журнала занимаемся мы, два зама главного
редактора или ответственный секретарь. Сейчас поделено так: я отвечаю за
английский выпуск, ответственный секретарь – за русский выпуск. Это, в первую
очередь, работа с рецензентами.
– А что значит работа с английской версией? Она же, в основном,
переводная.
– Там вот в чём дело. Примерно треть статей в
Journal of Analytical Chemistry публикуется иностранцами. И сейчас эти журналы (русская и
английская версии) разведены. Из русской версии статьи автоматически попадают в
английскую, но иностранные статьи не идут в русский выпуск.
– И в английской версии больше выпусков?
– Нет, всё то же самое, просто сами выпуски больше. Журнал [сейчас
относится к] Q3. Статьи присылают из Китая, Индия,
Ирана, Пакистана, иногда и стран Европы и даже из Штатов (всего 30-40 стран).
Но с этими статьями много редакторской работы, у нас есть научный редактор,
которая этим занимается. Есть еще сотрудники редакции. Но процессом надо
управлять, принимать решения о публикации статей, отвечать на многочисленные
вопросы, "разруливать" проблемные ситуации. Там хватает всего.
– Давайте перейдем к школьному образованию. Вы входите в жюри Международной
Менделеевской олимпиады. Расскажите, пожалуйста, об этой работе.
– В Менделеевскую олимпиаду я пришёл в 2002 году. Как только мы
вернулись из Штатов, Андрей Викторович Гармаш мне сразу предложил заменить его
в качестве члена жюри. Потом там было создано 5 разделов: органика, неорганика,
физхимия, аналитика и науки о живом и полимеры. Я, соответственно, куратор раздела
аналитической химии. И ещё очень часто приходится заниматься экспериментальными
турами. Нет специального ответственного за экспериментальный тур, и фактически
мне приходилось выполнять эту функцию простому потому, что аналитика – это
самое доступное и простое, и она практически всегда есть [в экспериментальном
туре].
В этом году у нас было около 150 участников. Мы выросли из Всесоюзной
олимпиады. На первых Менделеевских олимпиадах было не так много участников,
потом какое-то время держалось около сотни, потом пошло вверх. Сейчас
участвовало 30 стран, приезжают все, кто заявляется, мы почти всех берём. В
этом году олимпиада проходила в Китае, в Университете МГУ-ППИ в
Шэньчжэне.
– Вы сами придумываете задачи или "раскидываете" их по кафедре?
– Есть задачи, которые придумываю я, но больше шлют авторы. Но, опять
же, со многими из них надо работать, потому что присылается сырой продукт,
который надо еще довести до задачи. Может идти многократная "перекидка" с
автором.
Несколько раз доводилось участвовать в подготовке "большой"
Международной химической олимпиады: 2013 год (Москва), эксперимент в Баку (2015
год) и Тбилиси (2016 год). Какое-то время я тренировал российскую сборную на
учебных сборах и четверку, которая отобрана на олимпиаду. Проводил с ними
занятия, но больше 10 лет назад передал это молодёжи. И еще за мной секция
аналитической химии олимпиады "Я – профессионал", которая существует уже
несколько лет.
– Каково работать с олимпиадниками такого высокого уровня?
– Это абсолютно мотивированные люди, не типичные школьники. Это даже
нельзя назвать работой со школьниками. Формально да, это работа со школьниками,
но фактически это совсем другое. С ними работать легко, в том смысле, что не
надо ничего преодолевать. Бывали даже такие сильные ребята (особенно в
2007-2009 годах), которые нам объясняли, как решать те задачи, которые
мы им дали. Я даю задачу, её решают, потом я рассказываю решение, а они
говорят: "А зачем так сложно? Вот можно так". Я говорю: "Вы знаете,
действительно, так можно и так проще".
[Настоящая] работа со школьниками была в конце 80-х – начале 90-х
годов: у нас на практикуме были СУНЦ, 171-я школа. У них были занятия на
химфаке, и мы были привлечены как молодые преподаватели, работали с ними. Хотя
это тоже не типичные школьники, а, в основном, мотивированные.
А вот если, допустим, вы просто учитель химии во "дворовой" школе, и вы
входите в класс, а там сидят охламоны, положив ногу на ногу и говоря: "А нам
ваша химия нафиг не нужна. А мы учить ее не будем", то что с ними делать? Очень
трудно что-то противопоставить. А, действительно, зачем химия нужна? Зачем
география нужна? Зачем тычинки изучать? Понятно, что нужно как-то развивать
мозги, но, может быть, можно развивать их каким-то другим способом, более
полезным? Например, заставить детей изучать медицину на уровне, скажем,
медицинских училищ. Почему, если ребята после 9 класса могут в медучилище
учиться и получать специальность медсестры/медбрата, то же самое не могут
делать дети в школе? Тогда возникает сильнейшая мотивация: "Вы медицину
собираетесь изучать в 11 классе? Собираетесь. Значит, будьте добры выучить
биологию. А чтобы выучить биологию, будьте добры выучить химию. А чтобы выучить
химию, будьте добры выучить физику с математикой". Тогда уже трудно спорить.
"Да, Мариванна, нам придется учить химию хотя бы для этого".
Уровень медицинского знания в обществе оставляет желать много лучшего.
Сейчас врач сражается с пациентом. Если пациенту сказано принимать одну
таблетку до еды, то можно кол на голове тесать, но он примет две таблетки после
еды и скажет: "А я хотел, чтобы мне быстрее помогло". Не хватает медицинской
культуры для этого. Поднять медицинское знание, медицинскую культуру таким
образом можно, но я понимаю, что общество до этого не дозрело. Если бы у нас
медицина изучалась в школе как предмет, мы бы жили в другой стране в плане
медицины. Врачу иметь дело с образованным человеком гораздо эффективнее. [Аргумент]
"зачем вам медицинские знания? Обращайтесь к врачу" отметаю, потому что 99.9%
времени мы находимся без врача. Когда с нами что-то случается (несчастный
случай, болезнь), то решение принимаем мы, а не врач. Мы принимаем
решение принять таблетку, вызвать скорую, побежать к соседу или "ничего, само пройдёт".
И от правильности этого решения зависит очень многое. А это решение, когда
отсутствие медицинского знания полное, принимается неправильно.
А за счёт чего [можно было бы изучать медицину в
школе] – пожалуйста, за счёт тычинок и пестиков, которые не нужны, за счёт
географии, которую можно в пять раз сократить, за счёт уроков русского языка,
которых у нас шесть в неделю, но никто от этого грамотней не становится. Решение
упражнений там бесполезно. Когда с нами занималась Галина Александровна
Самойлова, все часы на русский язык она оставляла на литературу, а по русскому
языку выставляла оценки за то, как мы написали тест на знание прочитанных книг.
Например, "Какое платье было на Наташе Ростовой на таком-то балу?". И нужно
было грамотной фразой написать ответы. И за это она ставила оценки за русский язык.
А так – русским языком мы почти не занимались. Ни упражнениями, ни правилами.
(Пару уроков в 10-м классе она только дала, по-моему.)
– В 171-й школе появились недавно медицинские классы, то есть хотя
бы есть движение в эту сторону.
– Да, можно считать это движением, но оно, конечно, недостаточное и
должно распространяться на всех. Не говоря о том, что на всех должно
распространяться изучение психологии тоже как обязательного предмета, который
нужен 100% людей. Потому что сначала мы учим географию в школе, а потом жена
орет на мужа в течение всей жизни. Одно с другим не бьется совершенно.
– Чтобы люди умели коммуницировать?
– Естественно. По-моему, это очевидные вещи, но ни в мире, ни у нас
этого нет. Правда, юриспруденция – третий пункт – уже появилась. Наших детей
уже более серьезно учили законодательству, и это хорошо. До этого общество
доросло. Может, оно дорастет и до двух других пунктов, наконец.
– Что Вы можете пожелать 171-й школе?
– Чтобы каким-то волшебным образом туда опять стали поступать самые
сильные ребята, которые сейчас уходят в школу под руководством С.Е. Семенова
(раньше Московский химический лицей №1303, сейчас входит в состав "Школы на
Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова" – прим. А.Б.) и другие ведущие
школы.
– Но в топ-4 химических школ Москвы мы входим. Есть проект
"Московские химические классы", куда вошли четыре школы, включая 171-ю.
– Тогда пожелание – из четвёрки, так сказать, войти в тройку.
– За счет чего можно усилить позиции?
– Видимо, за счёт кадров. Скажем, школа С.Е. Семёнова держится за счёт
С.Е. Семёнова. Это энтузиаст и очень интересный человек.
– С.С. Бердоносов сказал в нашей последней беседе, что программа
сама по себе ничего не решает, решают люди.
– Об этом и разговор. Программа не решает, но методика этих людей очень
даже решает. Как вёл занятия Владимир Иванович Дайнеко – я ни до, ни после не
видел такого. Ни на факультете, нигде. Как он это умел делать – это просто
фантастика! Ты сидишь, урок проходит, и ты ни разу не посмотришь на часы. Всё
время он чем-то занимает тебя, при этом всё время выстраивается какая-то
логика, и ты сам приходишь к новым знаниям. Он давал задачи, которые позволяли прийти
к каким-то концепциям, которых не было в лекции. Он очень хорошо знал лекции,
ибо он сидел на лекциях С.С.
Чуранова, и в соответствии с ними строил свои занятия. У нас он вёл только
семинары.